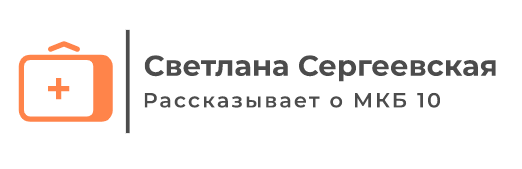Мы чужие среди своих афганский синдром
Психотравмирующее событие, связанное с опасностью для жизни, часто оставляет в психике глубокие следы. Это состояние известно как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) исследуют, возможно ли ПТСР у животных, и чем оно является с точки зрения эволюции
«Вьетнамский синдром», «афганский синдром» – это тоже ПТСР. Причиной этого психического состояния может стать не только стресс, пережитый во время военных действий. Оно может развиться в результате сексуального насилия, жестокого обращения в детстве, террористических актов, природных или техногенных катастроф, длительных болезней и смерти близких людей, даже финансовых трудностей… Полученные в этих ситуациях тяжелые психические травмы могут вызывать переживания интенсивного страха, беспомощности и крайнего ужаса в течение долгого времени после самого события.
Только в США 5,2 миллиона человек ежегодно страдают ПТСР, при этом у женщин это расстройство регистрируют в два с половиной раза чаще, чем у мужчин. Врачи считают ПТСР весьма серьезным заболеванием, которое требует медикаментозного лечения. Однако в последние два десятилетия возникла гипотеза, что это не столько болезненное состояние, сколько естественное явление. Одновременно появилось представление, что поведение животного при появлении хищника описывается не только формулой «бей или беги», но и в большой степени в дальнейшем имеет много общего с поведением человека, страдающего ПТСР.
Конечно, возникает вопрос: может ли у животного в принципе появиться расстройство психики, аналогичное человеческому? Как минимум, существуют животные модели ПТСР, которые используют для изучения развития этой патологии и проверки эффективности лекарств. Животных вводят в состояние, подобное ПТСР, с помощью, например, иммобилизационного стресса, то есть, вынужденной неподвижности, или предъявления хищника, как непосредственно (грызунам могут показать кота), так и его запаха или голоса.
Есть принять, что с точки зрения эволюции выживание важнее, чем качество жизни, то память об опасности полезна, если помогает избежать ее в будущем. Тогда ПТСР представляет собой эволюционную адаптацию, увеличивающую вероятность выживания за счет своевременного обнаружения опасности. Но есть и издержки – повышенная пугливость и реакции избегания пугающих сигналов как симптомы ПТСР.
У диких животных такие издержки могут приводить к ухудшению способности напуганных родителей прокормить всех своих детенышей. Но если родители будут беспечны и погибнут сами, скорее всего, умрут и их потомки. Известно, что у птиц взаимодействие с хищниками влияет на родительскую заботу; аналогичные эффекты отмечены и у млекопитающих, но в целом такая точка зрения нуждается в дополнительных доказательствах.
Недавно ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) проверили, насколько стойким является страх перед хищником у черношапочных гаичек, небольших птиц из семейства синицевых. В течение двух дней птиц держали в отдельных клетках и давали прослушивать звуки, одной группе – издаваемые хищниками, другой, контрольной, – животных, не опасных для гаичек. Затем вся стая жила на открытом воздухе в обычных условиях, а через неделю ученые оценили реакцию птиц на сигналы опасности.
Они давали птицам в течение 15 минут слушать сигналы опасности, издаваемые их соплеменниками, и у тех, кто слушал хищников, обнаруживались поведенческие признаки, отвечающие критериям животной модели ПТСР. При этом у них в миндалине и гиппокампе (отделах мозга, участвующих в реакции на опасность) почти в полтора раза выросла активность белкового маркера долгосрочной активации нейронов.
Эти результаты подтверждают идею ПТСР как нормального явления в природе, и человек в этом смысле не является исключением: ведь мы лишь совсем недавно, по эволюционным меркам, перестали ежечасно бояться хищников. Они также дают пищу для размышлений ученым, занимающимся биомедицинскими исследованиями, и врачам.
А всем страдающим ПТСР, возможно, станет легче, если они будут знать: то, что они испытывают – не патология, а естественная реакция, отточенная миллионами лет эволюции.
Понравился материал? Не забудьте поставить лайк и подписаться!
Фото: https://pixabay.com
Источник
Советские войска покинули Афганистан 20 лет назад. Казалось бы, с течением времени психологические травмы людей, побывавших на той войне, исчезнут. На самом деле, по данным психологов, с годами они лишь усиливаются. В то же время, системная реабилитация афганцев в России не ведется, а оплачивать услуги специалистов самостоятельно могут лишь единицы. О прошлом и настоящем этой войны «Росбалту» рассказал ректор Восточно-европейского института психоанализа (ВЕИП) Михаил Решетников.
– Михаил Михайлович, расскажите о своем опыте пребывания в Афганистане.
– Для меня это был важный период жизни, это было время переосмысления многих вещей. До Афганистана, как и многие другие офицеры, я был еще достаточно наивен и верил в такие понятия, как интернациональный долг. Но когда я попал туда, идеализация улетучилась очень быстро, за какие-то 2-3 месяца. Те исследования, которые мы провели на войне, разочаровали меня с точки зрения прежних представлений о советской армии, о подготовленности войск, об их тыловом обеспечении. Тогда я написал подробный отчет и в 1986 году под грифом «секретно» послал его в Генштаб, хорошо осознавая, что в СССР его все равно не подвергнут огласке. В этом отчете мы с коллегами описали все проблемы воюющей армии – от материального обеспечения войск до морально-психологической подготовки личного состава. В тот момент никакого страха за свою судьбу у меня не было, просто хотелось хоть чем-то помочь воюющей армии.
По возвращению домой меня сразу же начали таскать по кабинетам политработников. Они задавали мне один и тот же вопрос: «Зачем молодой офицер искал факты, порочащие советскую армию?». То, что отчет был засекречен (а рассекречен он был только в прошлом году), никого не интересовало. Кончилось это «выворачивание души» только через два года. Я встретился с тогдашним начальником главного военно-политического управления вооруженных сил Дмитрием Волкогоновым. Он сказал мне: «Ты все написал честно, такие вещи встречаются на любой войне, но тебя надо как-то защитить, поэтому мы наградим тебя». Таким вот неожиданным образом я стал кавалером Ордена Красной Звезды.
– Во время подготовки доклада в Генштаб вы исследовали более 2 тысяч бойцов. У вас сложилось общее представление о тех, кто воевал в Афганистане?
– Могу сказать, что в большинстве случаев это были ребята, призванные из колхозов и совхозов, райцентров, а из больших городов оказалось всего около 5%. Все это делалось, для того, чтобы гробы попадали не в мегаполисы. Там это могло бы вызвать взрыв негодования. В основном, погибших на войне хоронили по маленьким деревушкам и селам. Из более чем 2 тысяч военнослужащих я не нашел ни одного ребенка из семей партийного аппарата, из семей военнослужащих. 70% были детьми рабочих и крестьян, 20% – детьми мелких служащих. Около 30% плохо говорили по-русски. И они прекрасно знали, что на эту войну посылают не всех.
– Любая война имеет свою специфику. Насколько тяжело было переживать боевые действия в Афгане, с точки зрения психологии?
– Любая война ужасна. Но афганские события стали первой за долгие годы локальной войной, которая велась вне территории страны. Это имеет свою специфику. Одно дело, когда враг напал на тебя, и ты защищаешь свой дом, свою семью, как это было в Великую Отечественную, и совсем другое дело, когда именно ты, по непонятным причинам, приезжаешь на неизвестную тебе территорию. При этом отправляют туда далеко не всех, а только тех, кому в этот несчастливый период выпала «удача» дорасти до 18-19-летнего возраста. И ты понимаешь, что твои сверстники живут в мирной стране, ходят на танцы с девушками, празднуют дни рождения, учатся и работают, а ты в это время должен каждый день рисковать жизнью.
Осознание того, что рисковать приходится непонятно за что, приходит месяца через два. После того, как исчезают последние представления об интернациональном долге, у человека возникает типично военное сознание. Известно, что в любой армии солдат начинает воевать не сразу. Он становится солдатом, когда выживает в первых боях, видит смерть или ранение боевого товарища и понимает, что война – это не игрушка, и что здесь действует один закон – либо убьешь ты, либо убьют тебя.
Борьба за выживание оживляет глубоко потаенные в человеке инстинкты, слегка изменяет сознание, мобилизует психические и физиологические резервы организма.
– Предпринимались ли попытки реабилитации “афганцев”, их адаптации к мирной жизни в советское время?
– В свое время я выдвинул два тезиса. Первый говорит о том, что любая война – это «эпидемия аморальности». На войне возникает ситуация санкционированного убийства, а это запрещено культурой. Во-вторых, мародерство, грабежи, кровавые разборки среди своих возникают на любой войне, особенно когда войска вступают на территорию инокультурного, иноязычного противника. Этот противник воспринимается, как чужой, по отношению к которому все позволено. Во втором тезисе приводятся в пример солдат и атомная станция. Построить атомную станцию очень дорого, но во много раз дороже ее потом утилизировать. Так и с человеком. Воспитать хорошего солдата, провести его через боевые действия, сделать профессиональным военным очень дорого и очень тяжело, но вернуть его потом к мирной жизни еще сложнее.
Еще в 80-е годы мы поднимали вопрос о реабилитации, но понимали, что это очень дорого и доступно, увы, только очень богатым странам. Впрочем, тогда была неудачная попытка хоть немного адаптировать афганцев или создать некий переходный период. Войска, участвовавшие в боевых действиях, направлялись в учебные центры, в них солдаты, побывавшие на войне, служили под руководством офицеров мирного времени. Естественно, что солдаты таких офицеров ни в грош не ставили. Представьте себе, те работали с учебными частями, и вдруг к ним приходит боец, закаленный в боях физически и психологически, озверевший и усталый. Он требует к себе внимания и уважения.
– Многие солдаты, получившие «афганский синдром», так и не могли найти себя в мирной жизни…
– Да, это общепризнанный факт. Никакой реабилитации в СССР не было. У людей, возвращавшихся с войны, были представления о том, что теперь у них начнется что-то новое. В этой новой жизни все должно быть честнее, чище, благороднее. И тут они попадают в перестроечную и постперестроечную эпоху, в период первичного накопления капитала со всеми хорошо известными нам проявлениями. Они попадают в жизнь, где их никто не ждет. При этом ребята по своим довоенным воспоминаниям знали, что ветераны войны – это почитаемые в обществе люди. И вдруг они обнаруживают, что никакого почтения, никакого уважения к ним нет. Более того, при устройстве на работу их боевой опыт в Афганистане воспринимается как негативный фактор. Люди боялись их – за прямолинейность, взрывной характер, непрогнозируемость поведения. Куда их легко брали, так это в охранные структуры, в полукриминальные и откровенно криминальные формирования. У вчерашних воинов оставалось острое ощущение потерянной юности, они старались получить от жизни все, что было недополучено в военные годы. Кроме того, они испытывали психологический феномен, согласно которому выживший ветеран должен жить на полную катушку, «и за себя, и за того парня, который не до жил до этих дней».
– Психологическая травма на войне неизбежна? И есть ли у человека шанс на то, что со временем душевные раны «зарастут»?
– К сожалению, посттравматический синдром в той или иной степени проявляется у всех. Впервые описание этого феномена у нас появляется как раз после войны в Афганистане. Этот синдром достаточно специфичен. Речь идет об элементе психопатизации личности, раскрепощении низменных страстей, потребностей. При этом моральная планка в отношениях между «своими» становится очень высокой, но люди четко подразделяют всех на «своих» и «чужих».
Так называемые “афганцы” – это достаточно замкнутая среда, где четко действует взаимовыручка во всех областях. Известно, что посттравматические синдромы не имеют тенденции к исчезновению. Наоборот, с течением времени в большей части случаев этот синдром усиливается. Ожидание того, что пройдет 20 лет, и все забудется само собой, не оправдывается. Синдром будет идти по нарастающей и будет требовать коррекции, независимо от того, как изменяется социальная жизнь в обществе, независимо от социального статуса самого человека. Варианты самоизлечения есть, но они немногочисленны. Обычно эти нарушения только нарастают.
Есть наглядный пример, причем с военными действиями не связанный. Мой коллега, американский ученый армянского происхождения Луис Назарян изучал последствия землетрясения в Армении в 1988 году. Так вот, в первые годы после катастрофы количество психических нарушений снижалось, а в следующие 3-6 лет резко возросло. За 10 лет количество таких нарушений увеличилось более чем на 200%.
– Существует ли система реабилитации ветеранов в нынешней России?
– У нас нет такого понятия, как доступность социально-психологической реабилитации. Да, есть отдельные структуры, где психологические службы уже существуют. Наиболее серьезно эта работа поставлена в МЧС, но там есть грамотный мыслящий руководитель, который смотрит в будущее и легко перенимает опыт. В остальных ведомствах – таких как МВД и Минобороны – дело обстоит несколько хуже. Сейчас есть лишь единицы “афганцев”, которые способны оплачивать психологическую помощь – это дорогое мероприятие. Психолог работает с самым сложным из существующих в природе материалов, в день он способен принять лишь 4-6 человек. Те, кто работает, сами нуждаются в постоянной поддержке коллег, психотерапии. Ведь к нам идут не как к Регине Дубовицкой, не с шуточками и прибаутками, а с накопившимися горькими, страшными, ужасными ощущениями. Бесплатно это делать никто не будет. Даже имея самые гуманные порывы, выдержать такое практически невозможно.
Статистики по “афганцам” у нас нет, а даже если есть, то она недоступна. Сколько из них получает помощь, сказать нельзя, но известно, что у них возникают сложности даже с протезированием, что уж говорить о таких эфемерных для чиновников понятиях, как душевное состояние. Сейчас психологической подготовке бойцов уделяется больше внимания: вместо политработников в армии появились офицеры-воспитатели. Но пока эти структуры только формируются. Методологии и методик работы с военными нет, туда приходят люди, которые кое-что знают, но не имеют собственного опыта. Сегодня подготовка «специалистов по солдатской душе» оставляет желать много лучшего.
– После Афганистана Россия пережила еще одну военную кампанию в Чечне. Как обстоит дело с ветеранами этой войны?
– Я тогда уже не служил в армии, но в этой операции участвовало несколько моих друзей и учеников. К сожалению, они говорили мне, что никаких выводов из опыта афганской войны сделано не было. Ничего нового, не считая того, что здесь психическая травма была еще мощнее: воевали-то солдаты на своей территории.
– Знакомы ли вы с опытом работы иностранных коллег? Как обстоит дело с реабилитацией тех, кто пережил «вьетнамский синдром»?
– Повторюсь, что реабилитация – это дорогостоящее мероприятие, доступное лишь для богатых стран. Скажем в США, в конце 80-х годов совокупный бюджет организаций, которые осуществляли психологическую помощь ветеранам вьетнамской войны, составлял $4 млрд. Согласитесь, что эта сумма – нереальная для тогдашней России и даже нынешней.
Реабилитация в США исходит из очень позитивных критериев. Американцы давно поняли, что оказывать психологическую помощь намного выгоднее, чем держать ветеранов боевых действий в тюрьмах за то, что они натворили. Плюс к этому специалистам было точно известно, что количество самоубийств среди ветеранов Вьетнама, количество наркоманов, алкоголиков, разведенных, преступников, в несколько раз превышало средний уровень показателей популяции. Кроме того, ученые исходили из совершенно очаровательного, на мой взгляд, факта. Они считали, что самой главной реабилитационной системой является семья. Исходя из этого, они приняли еще одно решение. Поскольку вся тяжесть последствий поведения ветеранов в быту ложится на семью, они обеспечили бесплатную психологическую и медицинскую помощь их женам. Причем неважно, прожил он с этой женой много лет или женился только недавно. Именно ей тащить этот груз на своих плечах в течение долгого времени. Все его ночные кошмары, ссоры, раздоры и непонимание приходится переживать и ей. Я не виню наше руководство за то, что у нас такой системы нет, у нас не такая богатая страна.
– Возможно, для “афганцев” что-то может сделать не только государство, но и общество?
– Я бы хотел, чтобы общество посмотрело на них по-другому. Это – люди, которые прожили нелегкую юность. Если понять их по-человечески, принять все их тревоги, то мы увидим, что они преданные, обладающие огромной социальной смелостью, готовые участвовать в прорывных проектах, обладающие мощнейшим зарядом внутренней энергии. Ее только нужно направить в нужное русло. У этих людей есть огромная жажда жизни, и вдобавок к этому – это далеко не старые мужчины. Они умеют переносить лишения и способны преодолевать любые препятствия. Независимо от степени справедливости той войны, в ней было место геройству выживших и павших, которое заслуживает нашего уважения.
Беседовал Филипп Мостоцкий
Источник
11 АВГУСТА 2020 АХИЛЛА
Надежда А.
Каждый раз, натыкаясь на историю детей неофитов в духе девочки Маши, которая развивалась по сценарию «родители начали ходить в церковь и стали воцерковлять меня», я внутренне вздрагиваю и понимаю, что сейчас наверняка увижу историю разломанной на куски души человека.
Вздрагиваю я потому, что подобная история произошла в моей семье, и результатом ее стал мой диагноз — посттравматическое стрессовой расстройство (ПТСР), который у военных называется «афганский синдром». В мирной жизни он случается с человеком, столкнувшимся с тем уровнем страха и чувства беспомощности, который психика не в состоянии обработать.
Текст автора читает Ксения Волянская:
Мне повезло: когда моя мать начала ходить в церковь, у меня уже начинался подростковый период и базовые основы моей личности были заложены во вполне традиционной семье ученых. Кроме того, мне сильно повезло в том, что в роду моего отца религия имела глубокие корни, которые остались нетронуты советским периодом, благодаря чему мне передалась интуитивная уверенность в том, что здоровая вера должна укреплять, а не разрушать человека. Два этих фактора, а также системная работа с талантливым психологом помогли мне выжить, когда меня, уже взрослого человека, по полной накрыло духовным кризисом и последствиями опыта подростковых лет. Мне удалось добиться ремиссии в ПТСР, собрать свою душу и личность из тех руин, которые остались после воцерковления и взросления эпохи девяностых.
Почти вся история моего отрочества — это сопротивление тому нездоровому пониманию связи с Богом и путей к нему, которое хлынуло в мою жизнь с уходом матери в церковь.
Все началось, когда мне было 12 лет: мой отец умер, а мать с головой окунулась в религию. С тех пор я осталась, по сути, без родителей. Моя мама жива до сих пор, но ее родительская роль так сильно изменилась с воцерковлением, что удар по мне получился, как будто я осталась сиротой.
В церковь люди часто обращаются в момент тяжелых жизненных испытаний и кризисов. В случае моей матери, это была депрессия на фоне смерти мужа, резкого снижения уровня доходов и статуса, развала науки, экономики и идеологии в масштабах страны. Ей требовалась духовная помощь и психологическая поддержка. Но вместо этого она получила классического «строгого батюшку» в качестве духовного отца, а с ним и уверенность в непосильной тяжести своих грехов, бездонное чувство вины, самоуничижение и пожирающий душу страх, именуемый почему-то Божьим. Ее любовь к Богу до сих пор больше похожа на «стокгольмский синдром» заложника.
Так как матери было плохо, а помочь оказалось некому, она начала агрессивно спасать всех вокруг себя. И чем страшнее и тяжелее было ей, тем сильнее она «спасала» людей вокруг, хотя в тот момент не могла помочь даже самой себе. Ей казалось, что кругом все тонут. Она не научилась плавать сама, но бросалась к плавающим людям, барахталась, захлебывалась, висла на них и пыталась всех тащить в сторону берега с табличкой «спасение тут», на котором она сама никогда не была.
Нужно ли подробно рассказывать, как сильно это отразилось на моей жизни? Тут все шло по очень узнаваемому сценарию: на меня навешивались чувства вины, стыда и призывы каяться, молиться, поститься, спасаться. Попытки лечить меня святой водой, маслицем, целебными тапочками с мощей святых. В нашем доме стало так много некротической темы, что я, которая хотела жить, задыхалась. Я ходила в воскресную школу, где было невыносимо скучно и непонятно.
В одно лето мама отправила меня в православный (по сути — трудовой) лагерь в монастыре. Нашу группу подростков повез туда человек, который проявлял повышенный интерес к юным девушкам. Это была открытая информация, почему-то все вокруг знали, и говорилось, что «он борется со своим соблазном». Доподлинно не знаю, насколько он преуспел в своей борьбе, но спиртом от простуды он растирал тела девушек собственноручно и очень вдохновенно.
Там же меня учили плавать, сбрасывая на глубину озера с причала, — так себе по эффективности метод, надо признать, а со страхом глубины я работаю до сих пор.
Я очень старалась быть хорошей девочкой, соответствовать новой версии своей мамы и снова найти ее любовь, но чем больше я старалась, тем выше поднималась планка требований. И очень скоро я запротестовала так, как умеют протестовать подростки: перестала учиться в школе, уходила из дома, стала вращаться в компаниях с наркотиками и алкоголем. В 14 лет у меня была попытка суицида, чтобы хоть как-то обратить внимание матери на то, как мне больно, плохо и как мне нужна помощь. После нее мне стало еще хуже — усилилось чувство вины за то, что я подталкиваю мать в могилу, она страдает только из-за меня и моего плохого поведения.
Я прошла подростковую депрессию, и у меня были все шансы не дожить до последнего звонка и выпускного. Помогли мне выйти из кризиса пара школьных учителей, которые просто увидели в бунтующем малоприятном и грубом подростке страдающую душу и дали понять, что им не все равно и они готовы за меня побороться. И окончательно я сделала выбор в пользу жизни, влюбившись в парня самой обычной подростковой любовью.
После школы я пошла работать, с третьей попытки поступила в лучший вуз страны и окончила его с красным дипломом, стала востребованным специалистом, вышла замуж за хорошего человека. Но в середине жизни травматичный опыт все-таки взял свое, мне пришлось к нему вернуться и собирать свою разбитую душу по частям, лечить полученные ожоги на этой войне за себя. Сложный, страшный, болезненный, но очень красивый и сильный процесс.
А маленькой православной Маше хочется сказать, что она не просто не плохая, а, судя по ее письму, просто прекрасна. И пожелать ей собрать свою душу из руин, увидеть ее целостность, красоту и силу. А также пожелать вспомнить, что она создана ни много ни мало, но «по образу и подобию»… Духовные кризисы на то и даются, чтобы сбросить с себя навязанную роль правильного и удобного человека, становиться настоящим собой, иметь выбор. Маша, милая, ты этого достойна, не сомневайся.
Читайте также:
Источник