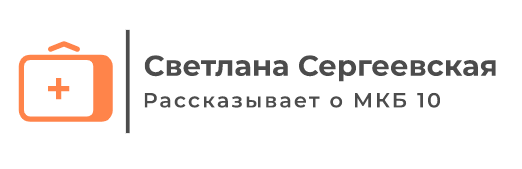Синдром черныша дмитрий быков скачать

– Синдром Черныша. Рассказы, пьесы 1.97 Мб, 458с. (читать) (читать постранично) (скачать fb2) – Дмитрий Львович Быков
Настройки текста:

ДМИТРИЙ
БЫКОВ
СИНДРОМ
ЧЕРНЫША
РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
МОСКВА / ПРОЗАиК / 2012
УДК 821.161.1 ББК 84(2Рос=Рус)6-4 Б95
Дизайн Бориса Протопопова
Быков Д.Л.
Б95 Синдром Черныша: рассказы, пьесы /Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2012.-512 с.
ISBN 978-5-91631-171-6
УДК 821.161.1 ББК84(2Рос=Рус)6-4
ISBN 978-5-91631-171-6
(C) Быков Д.Л., 2012
© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2012

Рассказы
Синдром Черныша
1
Сначала была клиника неврозов, потом центр Морозова, потом опять клиника, уже другая, и все говорили — нормально, легкий случай, затем держали три недели, пожимали плечами и выписывали. Все было нормально, ела, пила, разговаривала, но не могла работать, не умела заставить себя по утрам встать с постели и сварить кофе, а по ночам сплошные слезы, никогда бы не смогла поверить, что в одном человеке может быть столько слез. Дело было уже не в Черныше и не в аборте. Что-то такое из нее вынули, без чего человек перестает держаться. Она со всей возможной доходчивостью объясняла это отцу, брату, профессору Дымарскому, молодому и славному человеку, перед которым ощущалось даже нечто вроде вины: десятый час вечера, домой давно пора — нет, он сидит с ней и ведет разговоры. Дымарский уверял, что поступает так из чистого эгоизма — твой случай, говорил он, войдет в историю. Ведь ты здорова. Ты самый здоровый человек в районе, а не только в клинике. Я могу заколоть тебя препаратами до полной обезлички, ты будешь как Самсонова, видела Самсонову? — Кивает. — Нет, не кивай, ответь словами: видела? Хочешь, как она? Никакой депрессии, очень довольная, имя только забывает, а так полный о’кей. Между прочим, домашние уже на все согласны. Но я-то вижу. Я вижу, что ты абсолютно в себе, не надо мне косить под психическую, я психических повидал. Была бы ты парень — я понял бы, классический случай, армия впереди. Но тебе не грозит армия, от тебя требуется только собраться, это как в детстве перестать плакать, хотя хочется хныкать еще. Один раз глубоко вдохнула и пошла жить. Господи, люди теряли детей, родителей, проходили через Освенцим, что я тебе рассказываю, ты все знаешь, это позорная распущенность, в конце-то концов! Как было объяснить Дымарскому, что Освенцим не утешает, наоборот. Прежде ужас мира можно было переносить, хотя он торчал отовсюду: жалко было выброшенную газету, которая не успела все рассказать, сломанную ветку, не говоря уже про облезлую елку, которую она в марте, в первом классе, нашла на свалке и пыталась воткнуть в землю. Земля же влажная, вдруг приживется. Жаль было всех, всегда, но была какая-то защита. Теперь пробили дыру, и вся та влага, которая обволакивала душу, как околоплодные воды, весь этот защитный слой, который был как желточный мешок у малька, — все вытекло, и защита лопнула, и нечем залатать. Хорошо, говорил Дымарский, хотя она ничего не говорила. Допустим, это я понял. Прости, ляпнул сдуру. Конечно, не утешает и ничего не дает. Но вообразим невообразимое — заметь, я с тобой откровенен вполне, постарайся и ты так же. Хоть я-то тебе не кажусь монстром? Нет, вы не кажетесь. Отлично: тогда вообразим, что он вернулся. Это что-нибудь изменит? Он был готов к любой реакции — слезы, гнев, — но она только улыбнулась: нет, что вы, что вы, что вы. Это все равно как — она не подобрала сравнения, но он понял: все равно как предлагать вернуть Елену на пятый год Троянской войны или Судеты в разгар Сталинградской битвы. Поздно уже, какие Судеты.
Ну вот что, сказал Дымарский отцу. Я вам советую сейчас не кипешиться и набраться терпения. Если честно, скорей уж вы мой пациент, чем она. Вам я могу помочь, а ей нет. Можно внушить человеку, что жизнь переносима, и подкрепить это таблеткой, но нет такой таблетки, которая объяснит, зачем она вообще нужна. Мы все, если угодно, ходим по тонкому льду, но этого не помним, а она вспомнила, причем после первой же трещины. На самом деле жить нельзя, это я вам как врач говорю, но если живем — надо соблюдать какие-то конвенции. Вот с ней не соблюли эти конвенции, и она теперь не понимает, как можно существовать вообще, когда — ну что я вам объясняю… (Он видел, что отец не понимает: человек действия, привык, что из любой ситуации есть конкретный выход, а если нет, надо доплатить.) Я вам предлагаю больше по клиникам ее не таскать, только хуже сделаете. Она вся сейчас без кожи и не желает ею обрастать. Это случай не медицинский.
— Может быть, гипноз? — невпопад спросил отец.
— Поймите, тут никто посторонний ничего не сделает, — с тоской произнес Дымарский. — Это она, она сама себя должна загипнотизировать. Как гипнотизируем мы, вы, я, любой на улице встречный идиот. Каждый с утра, в первую минуту пробуждения, чувствуя, так сказать, бремя мира, внушает себе, что жизнь приемлема. У нее сломался клапан, который за это отвечает. Он может заработать, пробуйте возить, развлекать, ни в коем
Источник
Выбрать главу
ДМИТРИЙ
БЫКОВ
СИНДРОМ
ЧЕРНЫША
РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
МОСКВА / ПРОЗАиК / 2012
УДК 821.161.1 ББК 84(2Рос=Рус)6-4 Б95
Дизайн Бориса Протопопова
Быков Д.Л.
Б95 Синдром Черныша: рассказы, пьесы /Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2012.-512 с.
ISBN 978-5-91631-171-6
УДК 821.161.1 ББК84(2Рос=Рус)6-4
ISBN 978-5-91631-171-6
(C) Быков Д.Л., 2012
© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2012
Рассказы
Синдром Черныша
1
Сначала была клиника неврозов, потом центр Морозова, потом опять клиника, уже другая, и все говорили — нормально, легкий случай, затем держали три недели, пожимали плечами и выписывали. Все было нормально, ела, пила, разговаривала, но не могла работать, не умела заставить себя по утрам встать с постели и сварить кофе, а по ночам сплошные слезы, никогда бы не смогла поверить, что в одном человеке может быть столько слез. Дело было уже не в Черныше и не в аборте. Что-то такое из нее вынули, без чего человек перестает держаться. Она со всей возможной доходчивостью объясняла это отцу, брату, профессору Дымарскому, молодому и славному человеку, перед которым ощущалось даже нечто вроде вины: десятый час вечера, домой давно пора — нет, он сидит с ней и ведет разговоры. Дымарский уверял, что поступает так из чистого эгоизма — твой случай, говорил он, войдет в историю. Ведь ты здорова. Ты самый здоровый человек в районе, а не только в клинике. Я могу заколоть тебя препаратами до полной обезлички, ты будешь как Самсонова, видела Самсонову? — Кивает. — Нет, не кивай, ответь словами: видела? Хочешь, как она? Никакой депрессии, очень довольная, имя только забывает, а так полный о’кей. Между прочим, домашние уже на все согласны. Но я-то вижу. Я вижу, что ты абсолютно в себе, не надо мне косить под психическую, я психических повидал. Была бы ты парень — я понял бы, классический случай, армия впереди. Но тебе не грозит армия, от тебя требуется только собраться, это как в детстве перестать плакать, хотя хочется хныкать еще. Один раз глубоко вдохнула и пошла жить. Господи, люди теряли детей, родителей, проходили через Освенцим, что я тебе рассказываю, ты все знаешь, это позорная распущенность, в конце-то концов! Как было объяснить Дымарскому, что Освенцим не утешает, наоборот. Прежде ужас мира можно было переносить, хотя он торчал отовсюду: жалко было выброшенную газету, которая не успела все рассказать, сломанную ветку, не говоря уже про облезлую елку, которую она в марте, в первом классе, нашла на свалке и пыталась воткнуть в землю. Земля же влажная, вдруг приживется. Жаль было всех, всегда, но была какая-то защита. Теперь пробили дыру, и вся та влага, которая обволакивала душу, как околоплодные воды, весь этот защитный слой, который был как желточный мешок у малька, — все вытекло, и защита лопнула, и нечем залатать. Хорошо, говорил Дымарский, хотя она ничего не говорила. Допустим, это я понял. Прости, ляпнул сдуру. Конечно, не утешает и ничего не дает. Но вообразим невообразимое — заметь, я с тобой откровенен вполне, постарайся и ты так же. Хоть я-то тебе не кажусь монстром? Нет, вы не кажетесь. Отлично: тогда вообразим, что он вернулся. Это что-нибудь изменит? Он был готов к любой реакции — слезы, гнев, — но она только улыбнулась: нет, что вы, что вы, что вы. Это все равно как — она не подобрала сравнения, но он понял: все равно как предлагать вернуть Елену на пятый год Троянской войны или Судеты в разгар Сталинградской битвы. Поздно уже, какие Судеты.
Ну вот что, сказал Дымарский отцу. Я вам советую сейчас не кипешиться и набраться терпения. Если честно, скорей уж вы мой пациент, чем она. Вам я могу помочь, а ей нет. Можно внушить человеку, что жизнь переносима, и подкрепить это таблеткой, но нет такой таблетки, которая объяснит, зачем она вообще нужна. Мы все, если угодно, ходим по тонкому льду, но этого не помним, а она вспомнила, причем после первой же трещины. На самом деле жить нельзя, это я вам как врач говорю, но если живем — надо соблюдать какие-то конвенции. Вот с ней не соблюли эти конвенции, и она теперь не понимает, как можно существовать вообще, когда — ну что я вам объясняю… (Он видел, что отец не понимает: человек действия, привык, что из любой ситуации есть конкретный выход, а если нет, надо доплатить.) Я вам предлагаю больше по клиникам ее не таскать, только хуже сделаете. Она вся сейчас без кожи и не желает ею обрастать. Это случай не медицинский.
— Может быть, гипноз? — невпопад спросил отец.
— Поймите, тут никто посторонний ничего не сделает, — с тоской произнес Дымарский. — Это она, она сама себя должна загипнотизировать. Как гипнотизируем мы, вы, я, любой на улице встречный идиот. Каждый с утра, в первую минуту пробуждения, чувствуя, так сказать, бремя мира, внушает себе, что жизнь приемлема. У нее сломался клапан, который за это отвечает. Он может заработать, пробуйте возить, развлекать, ни в коем случае не навязываться, потом, может быть, вернется интерес к учебе, интеллект не поврежден, годы ее позволяют надеяться, восемнадцать лет… Я буду приходить, наблюдать, телефон у вас есть, звоните в любое время, но от лечения, честно вам скажу, лучше воздержаться.
Источник
Пёстрое лоскутное одеяло. С бору по сосенке. Что есть в печи, на стол мечи. Вот и вымел, вытряхнул всякое. Не пропадать же добру.
Грубо, условно, на пальцах, с множеством оговорок и извинений, но новеллистов можно разделить на стилистов и сюжетников. Первые озабочены преимущественно тканью повествования, которая, будучи верно сотканной, становится почти самодостаточной. Ею упьётся эстетствующий читатель, и ничего уже более не захочет.
Вторых интересует лишь сюжетная линия, либо же, таких мало, хотели-да-не-могут – слогом не вышли, вот и приходится сюжетничать. Зато читателей несравнимо больше набегает. Эстетствующей публики в природе мало, всё больше за похождениями следит.
В свою очередь, сюжетники делятся на квадратно-гнездовых и концовочников. Сила последних – в неожиданном парадоксальном финале. Это когда «не рассказывай, чем кончилось, – неинтересно будет». О’Генри помните?
Сборник удивил странноватой особенностью ряда рассказов. Сидит себе автор вполне эстетский рассказик дописывает, вязкий, фактурный, атмосферный. Казалось бы, чего ещё надо? – в конце тихонечко точку поставь, не спугни, не сдуй ненароком опиумной дымки.
Ан нет, ретивый стилист не может жить без неожиданной парадоксальной концовки и зачем-то приклеивает свиной хвостик к тушке манерной золотой рыбки. А концовка эта всё портит, переводя сочинение из категории стилистических изысков в разряд анекдотов. Причём неожиданные концовки таковыми, как правило, не являются, решительно ничем давно уже обо всём догадавшегося читателя не удивляя.
Собственно, рассказы. Пройдёмся галопом.
Синдром Черныша. Хорошо выписанная, болезненно-депрессивная интеллигентская история с концовкой… от рассказа Роберта Шекли «Запах мысли».
Христос. Школьная трепетная стыдоба. Особенно концовка (опять она!). Литкружок Дома пионеров. Такого обычно потом стесняются, заливаясь краской и стараясь никому никогда не показывать.
Прощай, кукушка. Яркий, выпуклый и с моей точки зрения очень точный (сам его именно таким и вижу) психологический портрет героя – сразу понятно, кого. Поэтому раскрытие в конце, с помпой и треском, инкогнито кажется, по меньшей мере, странным. И так ведь ясно было о ком речь.
Маршрут. Конспирологический монолог мальчишки-параноика, который читателю предложено принимать за чистую монету. Автор, как и прежде, наивно убеждён, что раскроет все карты только в финале, а до того никто ни о чём не догадается.
Киллер. Совсем скверный по слогу анекдот со всё той же «непредсказуемой» развязкой. Но тут уже типа «прикол». Стоит заметить, что стилистического единообразия у борзописца не наблюдается. Пробует себя решительно во всём без всякой брезгливости.
Экзорцист. Милая лёгкая юмореска на литературную тему. Хороша для чтения с эстрады в передаче «Вокруг смеха».
Обходчик. Уютная, политизированная, формально фантастическая притча категории «Списанных» или «Эвакуатора». Хорошая проза.
Проводник. История из песни Пьехи «Город детства», в который таки можно купить билет. Потому история и мрачная. Брэдбери вам в помощь. Или Алёна Званцова.
Миледи. Пьеса в форме рассказа. Купе поезда, дама и три её кавалера, выясняющие отношения с битьём посуды, психологическим стриптизом и неожиданной концовкой. Дюрренматт и Пристли Мценского уезда. Причём с постмодернистским самостёбом. Пьеса употребима как одноактная антреприза, с коей можно чесать по городам и весям.
Девочка со спичками даёт прикурить. Ещё одна стыдно-престыдная стыдоба, которой стыдиться не перестыдиться. Это, граждане, остро социальный, бичующий все язвы памфлет, высмеивающий подлость верхов и мерзость бомонда, с узнаваемыми именами и фамилиями. Журнал «Крокодил» на том свете плачет от зависти крупными горючими слезами.
Предмет. Снова жирная клякса. Неуклюжая советская как бы фантастика или как бы приключения шутливо-иронической разновидности, но непременно с глубокой глубиной и чугунными намёками. Литература для детей и юношества. Ветхозаветные школьники нашли бы в ней «смыслы» и получили бы удовольствие от картонного остроумия.
Подлинная история Маатской обители. Осмысление арабо-израильского цивилизационного конфликта в форме терминологического лукавства – евреи, арабы, Израиль названы другими именами с получением на выходе абстрактной модели с подтекстом (ну ни в жисть не догадаться). Маяковский назвал бы такое глубокой философией на мелких местах, так как единственный минус авторских рассуждений в их избыточной очевидности. Раздражает ещё и манера письма, характерная для советской фантастики.
Лето в городе. Крепкий, как член Союза писателей, привычно-литературный рассказ о короткой любви, являющийся точным сюжетным переложением известного всей стране четверостишия:
Я вспоминаю, тебя вспоминаю,
Та pадость шальная взошла как заpя,
Летящей походкой ты вышла из мая
И скpылась из глаз в пелене янваpя.
Мужской вагон. Едкое обличение окружающих лирического героя, сиречь самого писателя, недочеловеков, как сказали бы теперь – ватников, и режима в целом, который на таких вот недоумках только и держится. Другими словами, «дабы вонючие мужики».
Битки «Толстовец». Остроумная сюжетная поделка с той самой неожиданной концовкой, но в данном случае и вправду неожиданной. Как и Миледи, короткая пьеса в виде рассказа. Тоже купе, конкурирующие любовники, предмет обожания. Скорее всего, оба рассказа – из железнодорожного цикла, о котором слышал, но читать вряд ли буду.
Поймал себя на нежелании читать дальше. Держусь. Кстати, странная у него оценка возраста: «девушка лет двадцати двух» или в другом месте – «девушка лет семнадцати». Бывает девушка лет двадцати или двадцати пяти, но девушка лет двадцати двух выглядит странно. 20, 25, 30, 35, 40 и т.д. – маяки в море неопределённости, круглые даты, около которых можно плавать. Но 22 или 17 – координаты точные.
Зато порадовал «мелкий деловар». Славный термин, надо запомнить.
Убийство в восточном экспрессе. Весёлое поначалу издевательство над провинциальным ажиотажем, вызванным разного рода Кастанедами, Борхесами, Кортасарами, Коэльями и Перес-Ревертами (надо бы строчными, но как-то рука не поднимается), самими фигурантами и всеми причастными к индустрии идиотизма, которое не могу не приветствовать, перерастает в просто-так-ерунду.
Всё тот же железнодорожный цикл.
Работа над ошибками. Всё тот же железнодорожный цикл. Криминальная драма с «неожиданным» финалом, в котором не сомневаешься с самого начала. Опять короткая пьеса в виде рассказа: всё то же купе и конкурирующие любовники. Не надоело?
Можарово. Вновь железка, но неожиданно сильная, невзирая на страшную обличительную актуальность. Даже благодаря ей. Идея Замкадья, остроумно решённая и доведённая до логического абсолюта. Блестящий ход.
Отпуск. Опять купейная, на этот раз загробно-мелодраматическая фантазия. Загробье вообще моя слабость. Не исключено, что именно отсюда Званцова и слямзила один из сюжетных ходов «Небесного суда». Понравилось – «…в такие минуты кажется, что Бог тоже толстый и тоже спит».
Ангарская история. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Искромётное постмодернистское зубоскальство. Способ занять сознание.
Чудь. Да-да, опять железная дорога. И осточертевшие уже апокалипсические видения сочинителя. Очередной маленький «Эвакуатор». Что ж его так слабило-то в период написания? Медвежья болезнь. Хорошо хоть финал открытый.
Инструкция. Надо думать, последний опус из заказанного «Саквояжем СВ» цикла. Придумывать что-то было уже решительно невозможно – от паровозов тошнило желчью. Вот и выкрутился, доведя количество текстов до оговоренного в контракте, ничем уже не маскируя формальной дуристики самого последнего, пальцем деланного.
Борзописец не напрягается настолько, что с безапелляционным видом метёт совершеннейшую пургу, не удосужившись хотя бы в интернет глянуть.
«…Вы не скажете, если у нас сейчас одиннадцать часов, то сколько в Китае?
Если сосед задумается, то он инфицирован. Китай большой, в нём восемь часовых поясов».
Во-первых, не восемь, а пять. Во-вторых, и те отменили. Постановлением партии и правительства в Китае давно уже один часовой пояс – китайский.
А почему вдруг восемь? Так, сказал же: пальцем на коленке писано. Слышал, небось, звон, что часовых поясов в Китае, дескать, «..по 9-й восточный» насчитывалось, да лень наводить справки. Халтурка же, чего напрягаться?
Другая опера. Смешное до слёз, едкое злопыхательство, к счастью, никак не связанное с железной дорогой.
Всё, рассказы кончились, дальше пьесы, а пьес я читать не умею – только смотреть.
В сухом остатке: Прощай, кукушка, Обходчик, Проводник, Лето в городе, Можарово, Отпуск. И то не по гамбургскому счёту. По гамбургскому, может, только Можарово и останется.
Поначалу думалось, рассказы выстроены в порядке написания. Казалось, это многое бы прояснило. Ранние – слабые, сильные – зрелые. Увы. Поздние, если они поздние, тоже какие угодно. Упражнения руки.
И главная незадача: неясно чего от сочинителя ждать? В плане оправдания ожиданий. Ждётся же чего-то большого, продирающего, гусиной кожи, оцепенения, мрачного колдовства, как от некоторых его романов, скорее даже, эпизодов этих романов.
А ждал бы переливчатой дребедени – остался бы сыт и доволен, сладко подрёмывал бы сейчас на диванчике. То есть дело совсем не в щелкопёре и бумагомараке, а в требовательном не по адресу мне.
Его рассказы можно с удовольствием не читать. Или читать. Или забыть. Или зачем-то помнить. Он неровный, всякий, никакой. Его нет.
Поэтому в пору перефразировать райкинское: ты, Дима, в состоянии новеллистом не быть. И читатель в состоянии тебя не читать. Ну, зачем ему, скажите на милость, портить послевкусие от «Остромова»?
Источник